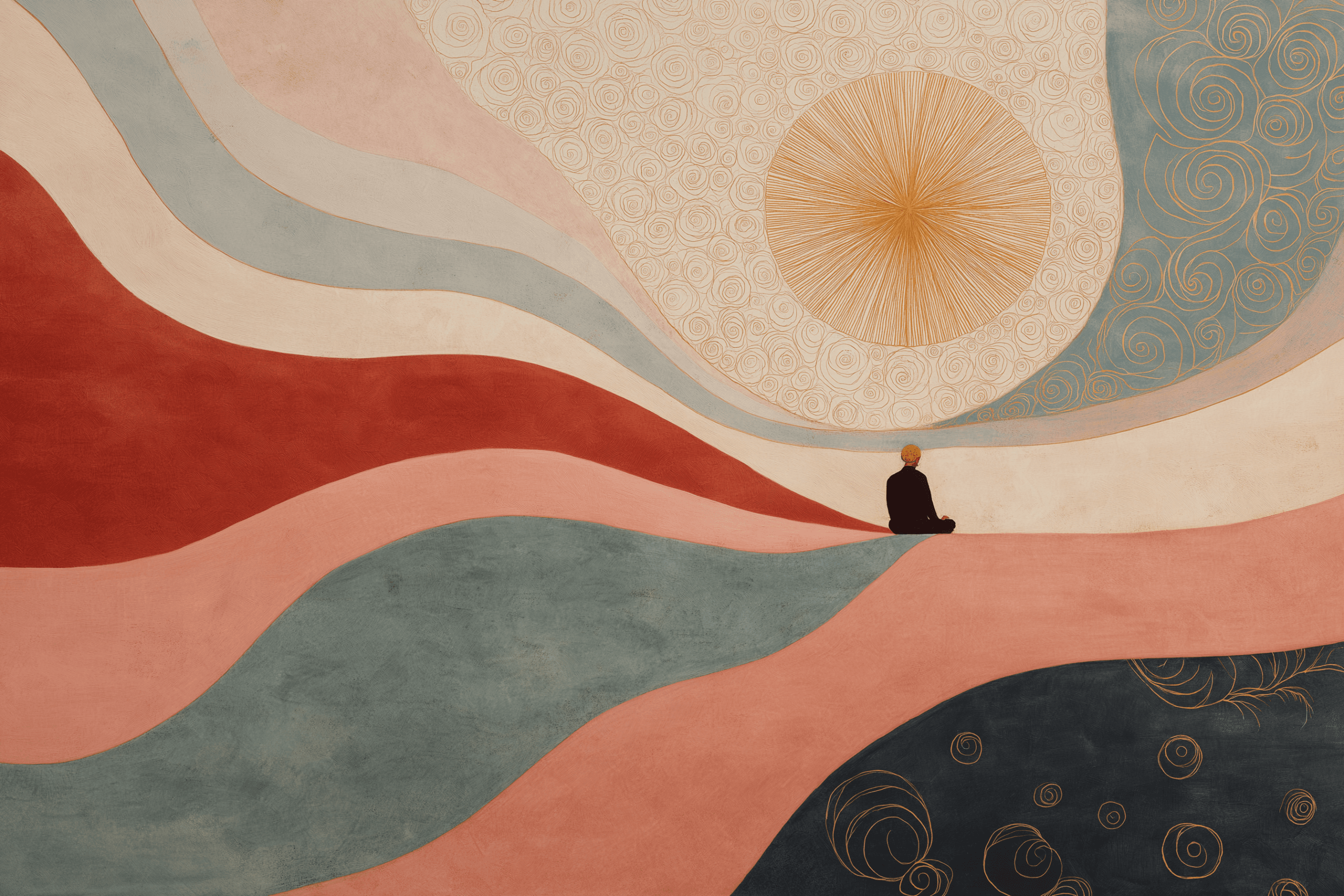Этот текст входит в книгу Сергея Гуленкина «Искусство медитации». Многие изложенные здесь размышления автор впервые представил на фестивале Evolution Festival 6 января 2025 года.
Иллюстрации: Павел Покатаев / Midjourney
***
Когда мы говорим о медитации в современном западном мире, она чаще всего ассоциируется с восточными духовными традициями. Мы живём в эпоху возрождения интереса к практикам работы над собой, и любопытно, что этот интерес часто приходит к нам из других культур, будь то индуистская йога, практика випассаны юго-восточного буддизма или тибетская ваджраяна. Если нет пророка в своём отечестве, нам требуется где-то ещё искать утраченное знание, которое, возможно, изначально присутствовало и в нашей культуре.
Что такое медитация? Можно ли считать её искусством или наукой? Попробуем дать рабочее определение. Медитация — это внутренняя практика, меняющая нас как субъектов. Я недавно перечитывал книгу Мишеля Фуко «Герменевтика субъекта»1, и он напомнил мне, что то, что мы понимаем под медитацией, можно связать с греческим понятием «техне», которое означает искусство, технология, умение или мастерство. Фуко говорит о том, что полезно проследить, как история практик себя, практик субъекта, на Западе восходит к античности. Он определяет технологии себя как практики, позволяющие индивидам, самим или при помощи других людей, совершать операции на своих телах и душах, мыслях, поступках и способах существования, преобразуя себя ради достижения состояния счастья, чистоты, мудрости, совершенства или бессмертия. Пока я пишу этот текст, рядом лежит книга «Стоицизм на каждый день». То есть мы видим, что сегодня эти практики возрождаются не только в связи с восточными традициями.
Еще одно слово — «теория», которое близко к понятиям «созерцать», «наблюдать». Теория — это некий способ видеть, воззрение. В буддизме есть последовательность обучения: воззрение, медитация и поведение. Фуко показывает, что в греческой и раннехристианской традициях существовала очень похожая структура практики. У нас есть некоторое представление о себе и о мире, и практика этого представления приводит к тому, что мы действуем определённым образом в своей повседневной жизни. При этом стартовая точка такова: у нас уже есть некое воззрение, которое мы не осознаём. И первый шаг заключается в том, чтобы заметить, как мы видим.
В диалоге Платона «Алкивиад» Сократ беседует с молодым человеком, который находится как раз в такой отправной точке. Сократ любил допытываться до всех. Он подходил к молодым людям на улице и начинал допытываться: кто ты, чем занимаешься? А потом выходил на философские вопросы: в чём смысл твоей жизни? Знаешь ли ты себя? Что, по-твоему, есть истина, добродетель? В ходе диалога Сократ часто выводит собеседников на чистую воду: оказывается, они совсем не знают того, что им кажется, они знают. Более того, они не знают о своём незнании. В этом смысле Сократ помогает им сделать первый шаг — узнать о своём незнании, о своём неведении. И узнать о том, что есть путь к исследованию себя, возможность позаботиться о себе в философском смысле.
Способность, которая пользуется другими способностями, — это не современное научное определение метакогниции или рефлексии, а то, как 2000 лет назад философ-стоик Эпиктет определял отличие человека от других живых существ. Животным, в отличие от человека, не нужно осознавать самих себя, заботиться о себе, руководить собой. Эпиктет объясняет то обстоятельство, что человек может и должен заботиться о себе как субъекте, тем, что у него есть способность, которая по своей природе отличается от других способностей и в которой проявляется божественное начало. Человек может видеть, как он видит, и упражнять своё сознание. Открытие этого становится отправной точкой путешествия к себе.
Есть известная метафора движения по пути практики себя, практики медитации — метафора кормчего. Кормчий — это человек, который управляет кораблём, рулевой. И воззрение — это то, что задает направление нашему плаванию. То воззрение, с которым мы движемся, которое мы где-то приобретаем, усваиваем, может быть нами осознано, может быть нами увидено. И это то, что мы можем сознательно практиковать. Тогда медитация предполагает некое упражнение в видении — упражнение в определённом способе смотреть, в истинной речи или отношении к реальности, которое мы стремимся настолько полно и хорошо освоить, что оно станет нашим принципом действия, основой нашего образа жизни.

Метапознание: концептуальная и феноменологическая рефлексия
Этимологически слово рефлексия связано со значением «отражать», «загибать», «обращать назад». Рефлексия предполагает, что мы осмысляем свои убеждения, поступки, события жизни или себя как личность. Мы можем отличать такую концептуальную рефлексию от рефлексии феноменологической, которая означает, что мы осознаём состояние и активность своего ума в настоящем моменте. Близкий по значению термин «метапознание» (метакогниция) имеет различные значения в литературе, включая мышление о мышлении, знание о знании, осознание своего сознания.
Как указывает Джон Черчилль2, метапознание включает как концептуальные, рефлексивные навыки выбора перспективы, необходимые для построения знаний о себе и корректировки ошибочных представлений, так и непосредственные неконцептуальные (более близкие к перцептивным) процессы, необходимые для разотождествления/деконструкции структур ума, как это происходит в созерцательных практиках. Метапознание часто описывается как мышление о мышлении, но оно также может включать: мышление о чувствах, мышление о восприятии и мышление о знании; а также чувствование (т.е. ощущение/восприятие) эмпирической природы своего мышления или восприятия.
Таким образом, можно выделить три аспекта метапознания: метазнание, метачувствование и метамышление. В созерцательном контексте они соответствуют созерцательному знанию, непосредственному опыту и метакогнитивному осознанию. Все три формы метапознания могут оперировать любым из упомянутых типов содержания (чувства, память, мышление и т. д.). Метамышление и метачувствование — это процессы, происходящие в данный момент, а метазнание — это информация или стратегический навык, хранящийся в памяти. Метамышление включает в себя саморефлексию, ведущую к умозаключениям, которые обычно переводятся в концепции и язык; в то время как метачувствование более перцептивно, неконцептуально и нерефлексивно.
В буддизме есть высказывание, приписываемое Падмасамбхаве: «Воззрение должно быть обширно, как небо, действие/поведение должно быть точным, как ячменное зерно». Если интерпретировать эту мысль исходя из сказанного выше, нам предлагается совместить подлинную безграничность сознавания, то есть метачувствования, с точностью различающего анализа, то есть метамышления. За такой формулировкой, по сути, можно увидеть более сложную взаимосвязь абсолютной и относительной истины: абсолютному неконцептуальному воззрению обширного неба соответствует спонтанное, свободное от ориентиров поведение, а точному этичному поведению предшествует аналитическое воззрение, и обе эти пары не противоречат, а дополняют друг друга.
Мишель Фуко указывает, что в эллинистический период существовали две великие формы рефлексии. Во-первых, это рефлексивность как обращение души на себя саму у Платона. В этой форме рефлексивности доступ к истине открывается как её узнавание или припоминание. Субъект оказывается изменённым, поскольку в акте припоминания происходит его освобождение, он возвращается к своей сущности. Отворачиваясь от мира видимостей и глядя в себя как в зеркало, душа ухватывает себя в своей сущностной реальности и одновременно постигает себя как субъекта некоторого знания.
Во-вторых, форма медитации, развёрнутая прежде всего стоиками. В этой форме рефлексивности на первом месте — проверка того, что мыслится, испытание себя самого как морального субъекта и своего рода упражнения в свободе. В движении, которое стоики описывают как обращение взгляда на самого себя, схватывается не сущность души, как это было у Платона. То, на что направлен взгляд, — это движение мыслей и образов, это страсти, волнующие тело и душу. Обретённый мудрецом-стоиком всеохватный взгляд на себя и мир позволяет ничем не стеснённому разуму наблюдать, проверять, судить, оценивать то, что происходит в потоке представлений и страстей.
Таким образом, мы возвращаемся к определению медитации как упражнения в некотором воззрении, которое меняет нас как субъектов. В случае стоиков это движение вознесения вверх, в некую космическую перспективу, и затем взгляд на свою жизнь и себя в ней с этой космической высоты, «как смотрит на мир Зевс». Что даёт практика такого взгляда? Она позволяет, например, освободиться от некоторых иллюзий, от сцепленности с ограниченной частной точкой зрения. Она даёт более широкую, возможно, более нейтральную и объективную перспективу. Для стоиков это во многом этическая история, потому что воззрение связано с добродетелью. С точки зрения стоиков, одна из принципиальных добродетелей для мудреца — это свобода. Тогда те воззрения, которые нужно практиковать в медитации и которые будут приводить к соответствующему поведению, связаны, например, с этой внутренней свободой.
Здесь есть интересные параллели между эллинистической и буддийской традициями. Меня поразила, например, одна из практик, которую предлагает Марк Аврелий. Это практика, по сути, деконструкции представлений или феноменов, и заключается она в следующем. Марк Аврелий говорит: подумайте или понаблюдайте танец или какое-то музыкальное произведение. Понаблюдайте, что происходит в этот момент. Если это действительно красивый танец, если это потрясающая музыка, она нас захватывает, полностью поглощает и уносит за собой. С точки зрения философа-стоика, это не очень хорошо, потому что такое полное погружение в представление как будто крадёт нас у самих себя.
В данном случае это пример воздействия искусства, но, конечно, могут быть другие. Речь может идти о каких-то страстях, сильных переживаниях, которые нас захватывают. С этим нужно что-то делать, поскольку это лишает нас внутренней свободы. Марк Аврелий говорит примерно следующее: хорошо, попробуйте, находясь в настоящем моменте (а это уже практика медитации, делаемая с внимательным осознаванием), разложить ситуацию танца на отдельные движения, понаблюдайте, как поднимается рука, как переставляется нога, или разложите музыку на отдельные ноты. Благодаря такой деконструкции очарование целого, иллюзия его эффекта ослабевает. Мы можем увидеть происходящее с более нейтральной и отрешённой позиции.
Конечно, возникает мысль: а что если, наоборот, некому экстазу стоит отдаться? Это будет зависеть от того, какую практику и какой способ смотреть мы используем. Например, музыкальный опыт, возможно, мы обычно оцениваем положительно, он нас обогащает, и мы хотим, чтобы он нас захватывал. Но также нас могут захватывать страсти или омрачения — в буддизме они называются клешами: страстное желание, гнев и другие. Тогда это то, от чего мы хотим освободиться.
В буддизме есть очень похожая практика деконструкции. В тхераваде она связана с тремя понятиями: дуккха, анатта и анитья — страдание (тягота, неудовлетворенность), не-я и непостоянство. И это тоже может практиковаться как определённый способ взгляда. Я смотрю на представления, на вещи, на феномены, на самого себя из перспективы такого воззрения. Я вижу, что всё изменчиво, непостоянно, всё очень быстро сменяет одно другое. У Марка Аврелия тоже есть, помимо разложения на части, перспектива временной деконструкции. Когда я вижу, что всё очень быстро меняется, у моего ума нет возможности зацепиться за это, очароваться чем-то. Когда я вижу анатту, отсутствие «я», — это тоже разложение на части, как в раннем буддизме: разложить, например, само «я» на скандхи, на разные элементы, увидеть, что нет «я» как чего-то устойчивого, существующего, цементирующего; научиться видеть, что это собрание неких процессов.
Всегда ли это нужно, всегда ли это полезно? Бывает, начинающие практикующие приезжают на буддийский ретрит, и им на второй или четвертый день говорят, что сейчас будем практиковать не-я, что может означать переживание растворения, исчезновения. И люди сильно пугаются: «Я боюсь, что сейчас разберусь и уже не соберусь». И уезжают с ретрита. Может быть, они поступают правильно, потому что практика подобного воззрения всё-таки должна предполагать внутреннюю готовность и понимание, зачем я это делаю, чтобы для меня это в итоге было позитивной целью. Как у Марка Аврелия цель — обнаружить внутреннюю свободу. Цель не в том, чтобы пережить диссоциацию, развалиться, почувствовать себя слабым и ощутить бессмысленность жизни, а в том, чтобы пережить больше свободы. С такой перспективой и сама практика предстанет иначе. Практика деконструкции может сопровождаться неприятными переживаниями, но за этим должна стоять большая цель, ценность, ориентир и благо. И это то, что поддерживает в практике. Не всякая деконструкция может быть полезна конкретному человеку в конкретном контексте. Это тоже нужно учитывать.

Освободиться от себя — главная свобода?
В индийской традиции существовал многовековой спор об атмане и анатмане. Есть ли вечная душа, природу которой нам следует постичь, или лучше заняться осознанием того, что не существует никакого отдельного «я», обладающего самобытием? Не вдаваясь в философские основания этого спора3, мы можем заметить здесь столкновение разных воззрений и практик себя, в чем-то напоминающее различие в перспективах у платоников и стоиков. Однако есть между ними и нечто общее. Так или иначе, речь идёт об освобождении от себя обыденного — то есть от себя, который ещё не начал заниматься практикой, созерцанием или философией. Это обыденное «я» часто характеризуется как пребывающее в заблуждении, в неведении, в состоянии автоматизма или сна.
Задержимся на определении блуждающего ума — ума, который не удовлетворён и беспокоен, который не знает, зачем живёт, что делает, куда направлен. Он просто блуждает в силу внутренних паттернов и обусловленности или плывёт по течению, подчиняясь обстоятельствам. Здесь мы можем обратиться к контексту современной нейронауки, где также есть термин «блуждающий ум», характеризующий наше обыденное, дефолтное состояние ума. В 2010 году в журнале «Science» вышла статья под названием «Блуждающий ум — несчастный ум». Группа учёных решила проверить этот тезис путём социологического исследования нашего опыта. Людям установили специальные приложения на телефон и, когда они были заняты своей повседневной деятельностью, их просили сообщать о своих мыслях, чувствах и действиях в данный момент. Оказалось, что в те моменты, когда ум блуждал, когда мысли убегали на что-то другое, связанное с собой, с прошлым, с будущим, люди чувствовали себя менее счастливыми. Напротив, состояние концентрации на том, что происходит здесь и сейчас, давало больше ощущения счастья.
«Человеческий ум — это блуждающий ум, а блуждающий ум — это несчастный ум. Способность думать о том, чего не происходит, — это когнитивное достижение, за которое приходится платить эмоциональную цену». Так исследователи резюмировали свою работу, и тем самым они подтвердили наблюдение многих философских и религиозных традиций, которые учат, что счастье можно обрести, живя в текущем моменте, поэтому практикующих обучают сопротивляться блужданию ума и «быть здесь и сейчас».
Учёные пришли к выводу, что люди были менее счастливы, когда их умы блуждали, чем когда они не блуждали, и это было верно во время всех видов деятельности, включая наименее приятные. Хотя умы людей были более склонны блуждать к приятным темам (42,5% отчетов), чем к неприятным (26,5% отчетов) или нейтральным темам (31% отчетов), люди не были более счастливы, думая о приятных темах, чем о своих текущих активностях, и были значительно более разочарованы, думая о нейтральных темах или неприятных темах, чем о своей текущей активности. Хотя известно, что плохое настроение вызывает блуждание ума, анализ свидетельствует о том, что блуждание ума в целом было причиной, а не просто следствием несчастья.
На мой взгляд, вывод о важности умения сосредотачиваться на настоящем моменте важен, однако практика медитации может не только помочь нам лучше концентрироваться — она может сделать само блуждание ума более осознанным, творческим и продуктивным. По мнению ряда исследователей, у опытных практикующих пассивный режим работы мозга в целом преобразуется в некое медитативное состояние как устойчивую изменённую черту — в счастливый, открытый, гибкий ум.
Возвращаясь к вопросу: освободиться ли от себя или, наоборот, прийти к себе? Ответ на него может быть разным в зависимости от воззрения и практики. В контексте греческого понятия заботы о себе и познания себя слово «себя» звучит достаточно позитивно. Для нас сегодня выражение «заниматься собой» может указывать на то самое блуждание ума, даже попахивать эгоцентризмом или восприниматься поверхностно. Когда мы говорим «заниматься собой» или «быть собой», что мы имеем в виду? В греческой традиции за «быть собой», «прийти к себе», «вернуться к себе» стоял особый смысл. Прийти к себе для стоиков, например, — это прийти к перспективе взгляда с высоты на свою жизнь, на всё мироздание. И сам этот взгляд — это и есть подлинное «я». Для Марка Аврелия позаботиться о себе означает проникнуть в глубь вещей, обрести отрешённость мудреца, свободу от представлений и страстей, от того, что считалось проявлением низшей природы. В платонизме это движение души, которая отворачивается от представлений этого мира, разворачивается на саму себя, смотрит в себя как в зеркало и в этом зеркале узнаёт свою сущностную природу. Всё это разные формы заботы о себе и познания себя.
Мы можем подчеркнуть одну мысль: практика медитации как искусства заботы о себе связана с изменением перспективы, с изменением способа смотреть. К подобному сдвигу не может привести лишь интеллектуальное знание в смысле отвлечённого познания мира. Это должно быть познание, которое глубоко меняет нас самих. Здесь вспоминается гётевский Фауст, который говорит, что изучил все науки, все знания, юриспруденцию, философию, всё постиг, но это не принесло ему счастья. И следом он заявляет, что готов на всё, готов спуститься в ад, встретиться с чертями, лишь бы обрести знание, дающее удовлетворение и внутреннее преображение, то, что приведёт его к самому себе. В «Фаусте» мы можем услышать отголосок практики себя как духовной практики — той, что призвана преобразить нас.
О медитации и психотерапии
В популярной сегодня медитации внимательности (майндфулнес) основная практика обычно определяется как безоценочное наблюдение всего, что возникает в настоящем моменте. Такая практика предполагает тренировку бдительности, концентрации, сенсорной ясности, развитие равностного и доброжелательного отношения безотносительно к конкретному содержанию переживаний, а также снижение вовлечённости в режим блуждания ума. В отличие от медитации внимательности, многие психологические подходы фокусируется именно на содержании опыта: изучении чувств и убеждений, прояснении внутренних конфликтов, понимании мотивов и желаний и т.д. Это противопоставление, однако, не является абсолютным, если мы посмотрим на медитацию в более широком историческом контексте. Например, практики уже упомянутых стоиков включают как развитие навыков внимательности, так и работу с убеждениями, ценностями, чувствами и поведением. В буддизме ряд предварительных практик также связан с психологической работой, в частности с целями и ценностями. Например, в махаяне есть бодхичитта. Если у кормчего, ведущего корабль, должен быть ориентир, то и практикующему нужно направление. Это может быть мотивация бодхичитты — стремление достичь состояния Будды на благо всех чувствующих существ. Это то, что делает нашу практику осмысленной и направленной, потому что у корабля должен быть курс. И это может включать работу с тем, какие представления мы воспринимаем как благие, а какие как неблагие, какие качества ума развиваем, а от каких стремимся освободиться.
В своем исследовании метапознания Джон Черчилль отмечает, что в контексте современной клинической психологии (например, когнитивно-поведенческой терапии, терапии принятия и ответственности и др.) некоторые из теорий фокусируются на рефлексивных навыках интерпретации прошлого опыта и пересмотра убеждений. Другие меньше внимания уделяют содержанию убеждений и сосредоточены на осознании процессов в настоящем моменте, то есть на признании и принятии содержимого сознания (мыслей, эмоций и ощущений), а не на его изменении. Эти методы направлены на то, что называют когнитивной разрядкой: «создание небуквальных, неоценочных контекстов, которые уменьшают ненужную регулятивную функцию когнитивных событий». Для обозначения этого процесса используются также такие термины, как невовлечённость, неовеществление, непривязанность. Этот сдвиг происходит путем превращения предшествующего субъекта опыта в объект: переход от себя как содержания (т. е. от слияния с нарративом себя) к себе как контексту, что может напомнить нам «космическую перспективу» стоиков. Черчилль замечает, что, хотя западные терапевтические модели хорошо справляются с исцелением многих специфических психологических ран, искажений и расстройств, они не обладают средствами, позволяющими принять всю самость как контекст и сделать самость как контекст стабильной чертой. В этом, по его мнению, состоит цель буддийской созерцательной психологии.
Созерцание предполагает изменение перспективы, или обзорной позиции. Возьмём, для примера, такую инструкцию: «Не думайте свои мысли, а попробуйте наблюдать их». Попробуйте наблюдать, как мысли приходят и уходят в пространстве сознавания, как облака в небе, а вы наблюдаете эти мысли и не вовлекаетесь в них. Что происходит? Мы как будто делаем шаг назад, занимаем другую перспективу. Мы выпутываемся из отождествления с мыслями, из сцепленности с ними. Мы находим большее пространство, больший контекст, в котором можем увидеть эти мысли со стороны: то, что было субъектом (отождествление с мыслями), становится объектом (наблюдение мыслей). В созерцательных традициях есть последовательность таких перспектив, когда мы учимся выходить за пределы конструкций ума, с которыми обычно отождествляемся, и обретаем большую широту видения, иное воззрение4. Это то, что Падмасамбхава подчёркивает в своём высказывании: воззрение должно быть широким и необъятным, как небо.

Найти свой путь: предписание или эксперимент
Известно, что в традиции Пифагора процесс обучения был во многом связан со слушанием. Если человек приходил в школу к учителю, то первый год или два он должен был только слушать. Новым ученикам нельзя было ничего говорить, даже записывать первое время; нужно было только сидеть и слушать. Были подробные инструкции, как нужно слушать, как сидеть, как усваивать эти истинные речи, речи мудрости. Как их слушать, осмыслять, чтобы потом практиковаться в них и сделать их тем, что определяет моё поведение, мои действия, мой образ жизни. Была развитая культура слушания. И это тоже форма тренировки навыков и метанавыков: как прикладывать внимание, как слушать, как осмыслять. Затем, когда позволялось говорить, — как вести диалог, как самому стать субъектом, который может транслировать эти истинные речи, истинное воззрение.
В подходе стоиков, особенно в римский период, с самого начало могло уделяться больше времени активному взаимодействию между учителем и учеником. Ученики, например, активно занимались диалогом с учителем и письменно фиксировали свои размышления. Практика была связана с усвоением устного знания — философских максим, мудрых указаний, наблюдений о жизни. И это отличалось, скажем, от практики платоников, где подлинное знание нужно было постичь через внутреннее припоминание, обращение души саму на себя, очищение и пробуждение забытого, а не усвоение нового.
В античности было достаточно много свободы в том, как человек мог практиковать духовные упражнения. В этом смысле создание собственной эстетики существования было искусством. И это отличает такие открытые к эксперименту и самостоятельному поиску школы, как стоицизм, от традиций, более ориентированных на правила и регламент. Например, на некоторых этапах развития христианства были очень подробные кодексы монашеского поведения, предписания, что нужно делать, включая внутренние практики в определённых ситуациях. Таким образом, мы имеем спектр возможностей между жизнью в творческой свободе, в искусстве себя, и жизнью по установленному правилу. Однако на всем этом спектре практика изначально не является чем-то навязанным извне, даже если она жестко регламентирована. Это практика, которую субъект сам на себя возлагает. Это аскеза, которую мы сами себе выбираем, будь она предельно гибкой или строго прописанной. Сегодня в каком-то смысле мы живём в ситуации даже большего разнообразия, чем греки эллинистического периода, — у нас ещё больше выбора. И у нас есть выбор между молодыми направлениями созерцательной практики и почтенными традициями, которые предлагают готовый набор правил и стройную терминологию. Есть чёткие садханы, которые можно выполнять, или же можно экспериментировать, исследовать. Например, в книге «Указывая великий путь» Дэниел Браун показывает, что представляет собой зрелый этап развития созерцательного знания в случае индо-тибетской традиции махамудры. Кроме того, сопоставляя разные традиции и подходы, мы можем увидеть как единые структурные принципы, так и важные различия и нюансы. И я хочу завершить этот текст мыслью о том, что сверяться с таким тысячелетним опытом полезно, даже если мы выбираем следовать своим творческим путем.
- Фуко. М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981–1982 учебном году. Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. — Санкт-Петербург: Наука, 2007. — 677 с. ↩
- Churchill, J. Murray, T. Integrating Adult Developmental and Metacognitive Theory with Indo-Tibetan Contemplative Essence Psychology // Integral Review, April 2020, Vol. 16, No. 1. ↩
- О понятиях атмана и анатмана см. статью Андрея Парибка «Предельное основание индийского философского спора об атмане и анатмане». ↩
- О последовательности воззрений, или обзорных позиций, в буддийской созерцательной практике, см., например, материал Дэниела Брауна «Три карты духовного развития». ↩